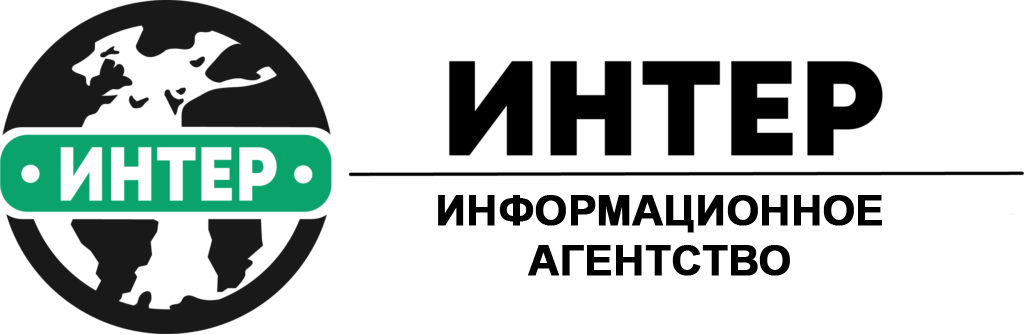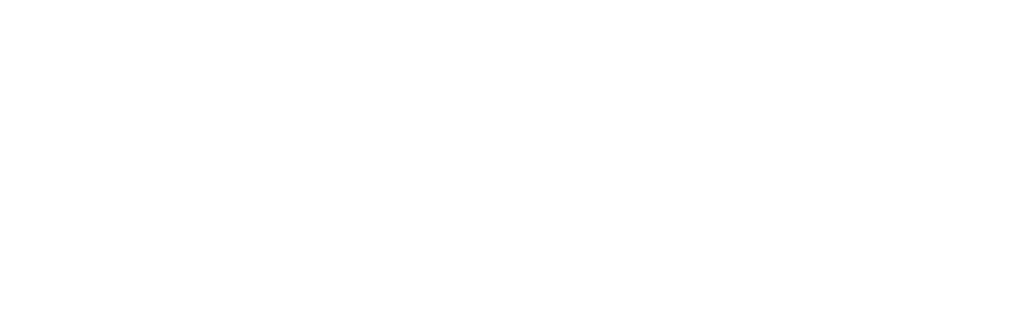В библиотеке имени Горького завершается цикл лекций «Метасюжеты русской литературы XIX века»
В это воскресенье, 19 июня, доцент ВолГУ Сергей Калашников прочитает заключительную лекцию из цикла «Метасюжеты русской литературы XIX века». Лекция состоится в ВОУНБ им. М. Горького в 15.00 и будет называться «От Грибоедова до Чехова: смыслы русской литературы XIX века». Какие точки соприкосновения получилось выявить в основных произведениях этого периода? Удалось ли лектору достичь поставленных перед собой целей? Обо всем этом Сергей Калашников рассказал ИНТЕРу.
Кто в Россию с мечом придет, в ее пространствах и погибнет
— Это завершающая лекция цикла. Правильно ли я понимаю, что отдельные произведения интерпретироваться не будут, а внимание будет сосредоточено на чем-то общем в сюжетах всех рассмотренных авторов?
— Да. Теперь в центре внимания будут вот эти самые точки наложения сюжетов друг на друга, которые, возможно, позволят нам выстроить некий единый сюжет литературы 19 века. По сути, это самая сложная задача всего цикла.
— Можете сейчас обозначить основные метасюжеты литературы данного периода?
— Перво-наперво, с чем мы столкнулись, — это очень интересная организация пространства русской литературы. Данный мотив звучал у Гоголя, появлялся у Гончарова в романе «Обломов», он есть практически в каждом из рассмотренных произведений. С одной стороны, у нас есть безграничное иррациональное русское пространство, которое порождает ощущение страха и чуда одновременно. Мы видим это в лирических отступлениях «Мертвых душ», когда автор глядит в это пространство, надеется получить от него какой-то ответ, но так и не получает.
С другой стороны, это самое пространство имеет внутри себя очень интересные локальные островки: те самые русские усадьбы, где воспитывается Татьяна, где Илья Ильич Обломов проводит свое детство и часть отрочества. Это то самое пространство, в которое в эпилоге «Преступления и наказания» выходит Раскольников, и, собственно, вот этот встречаемый вместе с Соней рассвет встает как раз в иррациональном русском пространстве, в котором оказывается возможно чудо.
Иррациональному и предельно открытому русскому пространству противопоставлен Петербург. Это тоже очень отчетливо видно фактически во всех рассматриваемых произведениях. Петербург как город нерусский, как город очень тесный, в котором пространство носит слишком рациональный характер, где человеку очень трудно выжить. Поэтому Петербург порождает разного рода фобии и теории. В частности, это теория Раскольникова, это нигилизм Базарова, это скука Онегина, это отчасти скука Печорина, которая заставляет его пускаться на поиски чего-то большего в открытое безбрежное российское пространство.
Да, фактически все герои русской литературы, по крайней мере тех произведений, которые нами рассматривались, — герои путешествующие. Причем путешествуют они именно по заданному вектору: Петербург и остальная Россия. Онегин, который отправляется в путешествие после гибели Ленского; Чацкий, который возвращается из путешествия; Чичиков в «Мертвых душах»; Штольц, который беспрестанно находится между Петербургом и остальной Россией, остальной Европой; наконец, Базаров, который отправляется в путешествие вот в эту самую глубинную Россию и не возвращается оттуда. В конце концов, в романе Толстого это французы, которые приходят в иррациональное русское пространство как носители рационального, цивилизованного начала, которые пытаются выполнить свою, как им кажется, особую миссию: они хотят приручить это самое пространство — и у них ничего не выходит.
Здесь важно понять, чем характеризуется пространство европейское. Оно сжатое, оно очень рационально осваивалось, причем на протяжении как минимум полутора тысяч лет. Там каждый клочок земли наделяется особой функцией, особым значением. И та социальная агрессия, которая характерна для Европы, возникает именно из-за недостатка пространства и высокой конкуренции между людьми внутри этого самого пространства. В отличие от пространства русского, которое оказывается действительно слишком обширным, социальной конкуренции внутри этого пространства нет, и отсюда вытекают такие качества и свойства русской души, как мечтательность, неспешность, неторопливость, созерцательность, особое отношение к труду. Труд оказывается бессмысленным в таком вот гигантском пространственном образовании…
— Вы сейчас опасную вещь говорите.
— Я говорю то, что есть в литературе 19 века. Это, на самом деле, тот концепт, который не русской литературой 19 века вырабатывается, он просто в ней вербализуется. Но это сложный вопрос. Русский человек умеет трудиться. И важно не мешать ему делать то, к чему лежит его душа. Скажем, как лесковский Левша — самородок, мастер, который без специального образования занимался тем, что ему было мило и в чем он действительно эту самую божью искру видел.
Там тоже есть интересный момент, когда задание было дано не подковать, а придумать как обойти этих самых англичан… Что делают кузнецы? Они во главе с Левшой отправляются в церковь Николая Чудотворца, тайно отправляются, чтобы там помолиться и вот эту самую божью искру, ответ на этот вопрос, как превзойти англичан, получить. То есть существует труд, который, условно говоря, освящен свыше, а есть труд для начальства, в котором все мы, русские люди, предпочитаем халтурить, чтобы не унижать свое собственное достоинство — это позиция Ильи Ильича Обломова. Либо вообще не делать.
Процесс Бродского, когда за тунеядство его осуждают, это не что иное, как претворение в современных реалиях позиции Ильи Ильича Обломова: не делать того, что противно моей совести, моим внутренним убеждениям.
Но я бы хотел продолжить мысль. Социальная конкуренция в русском пространстве очень низкая. Отсюда и возникают такие качества русского человека, как его мягкость, прежде всего, душевная, его склонность к милосердию, жалости, состраданию. В отличие от европейского агрессивного пространства, где, собственно, вопрос твоего личного выживания связан с тем, сможешь ли ты в конкурентной борьбе превзойти соперника или не сможешь. Вот эта плотность европейского пространства, его чрезвычайная заселенность и вызвали к жизни агрессивную поведенческую модель, которая получает особое выражение уже в 20 веке, в частности в идее крестовых походов на Восток.
— И эти модели, они остались…
— Они остались. Обратите внимание, что сейчас происходит в Европе. Им слишком тесно оказывается в этом европейском пространстве. Мне, например, вспоминается фраза, прозвучавшая в фильме «Президент». Владимир Путин в интервью Соловьеву говорит, что на международных встречах разного уровня, в формате «восьмерки» или «двадцатки», ему очень часто в кулуарах озвучивали мысль о том, что у русских слишком много пространства — нужно делиться. А практика 20 века показывает, что европейская социальная агрессия всегда направляется только на Восток. Но… Иррациональное русское пространство способно поглотить любую внешнюю угрозу. Об этом у нас как раз написан грандиозный эпос «Война и мир». Главная идея данного произведения в том и состоит: кто бы ни пришел в Россию, он завязнет в русских просторах… Только русский человек способен почувствовать их метафизику!
Герои-идеологи и вечные ценности
Другой аспект касается разного типа литературных героев, которые у нас представлены в литературе 19 века. Чуть выше мы уже говорили о теориях, порожденных Петербургом. А литература 19 века в целом порождает идеологический роман и героя-идеолога. Так вот, герой-идеолог — это человек, который пытается применить опять-таки к образу русского открытого пространства какую-то идею и с ее помощью систематизировать и регламентировать это пространство.
Теорию заимствованную, или выработанную в Петербурге, а значит, тоже пришедшую из Европы, потому что Петербург — это окно в Европу не только для русских, но и окно в Россию для европейцев. Это то окно, в которое в Россию врывается европейский сквозняк рациональной мысли. И эти рациональные попытки обустроить русское пространство оказываются безуспешными. В частности, Тургенев, Достоевский, Толстой в рассмотренных нами романах акцентируют внимание именно на ценностях не рационального порядка. Они говорят о том, что есть механизмы объединения русских людей на разном уровне…
Скажем, если мы возьмем «Отцов и детей» — это семейная преемственность, связь поколений. Если говорить о Достоевском, то это произведение об установлении внутреннего единства человека — двух составляющих его души: рациональной и чувственной, связанной с представлениями о вере и определенных нравственных комплексах. Толстой же выводит идею единства вообще на национальный уровень.
Ищите женщину
В этой системе представлений очень важна роль женщины. Русская женщина часто выступает в качестве спасительницы. Например, Соня Мармеладова. Она полностью растворилась в жизни другого человека ради спасения его души. Подобным образом у нас себя ведет Агафья Матвеевна Пшеницына, Наташа Ростова. Функция русской женщины, если следовать этому комплексу представлений, как раз и состоит в том, чтобы быть носительницей спасительного начала и уберегать мужчину, который по природе своей является все-таки агрессором…
Именно мужчины выстраивают различные теории и являются источником насилия, прежде всего, по отношению к другим. Задача женщины — окружить мужчину, именно достойного мужчину, заботой, вниманием, создать вокруг него благоприятную душевную атмосферу и полностью отказаться от своего я, раствориться в делах семьи, в спасении души другого человека. Эта модель реализуется по-разному. В том же самом «Евгении Онегине» Татьяне только предстоит воплотить ее в жизнь, а в романе Гончарова «Обломов» Агафья Матвеевна Пшеницына даже не осознает рационально то, что она делает, но она чувствует, идет за интуитивным ощущением того, что она счастлива от того, что находится рядом с Ильей Ильичом, и окружает его вот этой самой райской блаженной обстановкой.
Кульминация такого самопожертвования — это, конечно, героический поступок Сони, которая бросает все и отправляется спасать душу очень неплохого человека, но оступившегося и рискующего пойти не в том направлении.
Что в лекции тебе моей?
— Многие мои знакомые, кто также посещает ваши лекции, говорят: «Послушаешь Сергея Борисовича — и возникает желание перечитать книгу». Вас радуют такие оценки?
— Да, меня это радует, потому что я не ставлю перед собой задачу сказать окончательное слово о том или ином литературном произведении. Моя задача — вызвать к нему интерес. Собственно, цель этих лекций состояла в том, чтобы очистить произведение от интерпретаций, наслоений, возникновение которых связано с разными идеологическими перекосами, с инерцией восприятия. Потому что школьная программа, которая на протяжении 50-60 лет концептуально не меняется, создает некий стереотип восприятия, зачастую противоречащий содержанию самого текста. Поэтому не окончательное суждение, а стремление вызвать желание перечитать произведение и являлось, наверное, главной целью.
— А в вас что-то изменилось после начала работы над этим циклом? Вы читаете лекции в вузе, но все-таки там аудитория другая. Для студентов, даже для самых лучших, это всегда «обязаловка». А здесь люди по доброй воле приходят в выходные дни…
— Да, это самое замечательное, что люди приходят по доброй воле, и это люди разного уровня подготовки, разного возраста. Можно сказать, что студенты — это аудитория интеллектуально подвижная, замечательная, но ей не хватает где-то читательской эрудиции, жизненного опыта для того, чтобы воспринимать те или иные оценки. Плюс у студентов к преподавателю всегда отношение неравенства. Меня вот как раз устраивает отношение равенства, когда аудитория может возразить, задать вопрос, зачастую провокационный, может начать спорить.
Что век 20-й нам готовит?
— Немножко забежим вперед. И хронологически, и концептуально после 19 века напрашивается 20-й…
— Напрашивается. Очень напрашивается 20-й век.
— Можем ли мы ждать на следующий год соответствующий цикл?
— Я уже об этом думаю, хотя там, конечно, ситуация будет сложнее. Дело в том, что литература 19 века едина, монолитна. А в 20 веке у нас есть литература русского зарубежья, есть официальная советская литература и так называемая возвращенная литература. И эти три направления моделируют разные глобальные сюжеты.
— В 20 веке и значимых авторов на порядок больше. Если брать 19 век, то все очевидно: сначала обсуждаем Пушкина, затем Лермонтова, Гоголя… И ясно, какое у кого главное произведение. А в 20 веке возьмем хоть ту же лагерную литературу. Там и Солженицы, и Шаламов, и Домбровский….
— И нельзя проигнорировать ни одного, ни другого, ни третьего…
— Обратимся к войне — аналогичная картина, к революции — то же самое. Все очень разветвленно…
— Поэтому я понимаю прекрасно, что девять лекций — это очень мало, чтобы охватить весь 20 век. Скорее всего, я пойду по пути еще большего уплотнения материала. То есть если в этом году в каждой лекции рассматривалось по одному произведению, то в следующем цикле возьму на себя задачу рассматривать в одной лекции концептуально два-три произведения сразу. Ту же лагерную прозу, безусловно, в сопоставлении нужно рассматривать: концепцию Солженицына на фоне Шаламова и Домбровского.
Конечно, возникает желание посмотреть, как основные смыслы русской литературы 19 века трансформируются в литературе 20 века. Поэтому, возможно, на следующий год я рискну обратиться к данному литературному периоду.